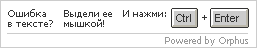БОЕЦ ВОЛХОВСКОГО ФРОНТА
На лацкане пиджака участника Великой Отечественной войны Николая Михайловича Лукина всегда были боевые и трудовые награды. Со временем парадный костюм ветеран надевал уже редко. Разве что на День Победы. Но о том, какой ценой были завоеваны боевые награды, не забывал.
Даже в учебниках написано: «Войсковая артиллерия – «бог войны». Служить артиллеристом было почетно, но быть артиллерийским разведчиком было престижно вдвойне, ибо он, рискуя жизнью, должен находиться на переднем крае, точно выследить и занести на карту координаты вражеских дотов, всех огневых точек и траншей противника. Только при этом случае артиллерийский огонь становится точным и эффективным». Эти слова и про артиллерийского разведчика Лукина, который попал на фронт в неполных 17 лет. Разведчиком стал потому, что так надо было для Родины. А до войны он мечтал о небе.
Шестого июня 1941 года выдали 9-класснику Коле Лукину удостоверение №19 Новгородского клуба ОСОВИАХИМ. Оно подтверждало, что его обладатель является курсантом школы пилотов. И считалось действительным до 15 сентября 1941 года. Но срок закончился 22 июня, в день начала Великой Отечественной войны. Ринулся в один из военкоматов и получил от ворот поворот – «подрасти немножко». И тогда юный пилот решил взять хитростью – поехал в Тихвин, где удалось убедить военкома, что его место на фронте. Вот как вспоминает ветеран это важное в его судьбе решение: «Определили на Волховский фронт, но не летчиком. После страшных бомбежек и первых потерь нашей авиации, оказалось, что пилоты есть, а самолетов не хватает. Поэтому мне не суждено было летать, хоть уже имел 21 самостоятельный вылет на У-2. Призывной комиссией при Тихвинском районном комиссариате Ленинградской области был призван на действительную военную службу и направлен 28 февраля 1942 года в 25-й стрелковый полк. Должность и воинское звание по штату – разведчик, рядовой. По военно-учебной специальности и должностной квалификации относился к разведчикам артиллерийских и минометных частей…».
- В чем заключалась служба, Николай Михайлович?
- Разведка всегда выдвигалась насколько можно вперед – закрепляли посты наблюдения, тянули связь, и только после ориентира на местности, уже владея обстановкой, давали сигнал подтягиваться другим. В разведку ходили и в паре, и поодиночке. Сидя в засаде нельзя было себя обнаружить – ни закурить, ни шевельнуться лишний раз, а если близко к противнику, то и сведения по телефону не передашь – могут услышать. А задача разведчику ставилась почти всегда одна и та же – дали сектор и в нем нужно как можно больше узнать о противнике. Важно было и уйти так, чтобы после себя не оставить ни малейшего следа присутствия. Кроме того, независимо от обстановки – идут бои или на фронте затишье, разведка всегда была начеку и выполняла боевые задания…
На свое первое задание он ходил с опытным разведчиком. Постепенно накапливал опыт и как однополчане артиллеристы-разведчики, находившиеся в передовых подразделениях пехоты, научился безошибочно докладывать обстановку, положение на вверенном участке, правильно оценивать тактическую важность объектов противника, которые необходимо было подавить огнем артиллерии. Специфика артиллерийской разведки – навести батарею на цель. От этого зависела и точность попадания, и даже экономия снарядов. А вот своих сослуживцев Николай Лукин даже не всегда успевал запоминать: «Долго разведчики не держались – то ранили, то убили…».
- Николай Михайлович, так Вы счастливый?
- Несмотря на то, что участок у нас был очень сложный, особенно это чувствовалось, когда становилось тяжелее Ленинграду, но все-таки я повоевал. А вот ранение меня не обошло – 14 месяцев возили по госпиталям, начиная от Рыбинска, где госпиталь развернули прямо в Доме культуры, Казань, Сибирь, Хабаровский край, Владивосток – здесь и комиссовали. Возвращаться домой, под Ленинград, было некуда – дом разбомбили, родственников эвакуировали…
Впоследствии Николай Михайлович много интересовался историей Великой Отечественной, из прочитанного даже сохранил истории о Волховском фронте: «В небольших по масштабам изнурительных и жестоких схватках среди болот и лесов шло «перемалывание» живой силы и боевой техники противника. Боевые действия Волховского фронта в 1943 году после прорыва блокады Ленинграда проходили в условиях, едва ли не труднейших из всех, выпавших на долю его воинов. Необходимо было поднять боевой дух бойцов. И тогда в войсках фронта была проведена большая работа по учету военнослужащих, потерявших связь со своими семьями и не имеющих переписки с родными. От каждой армии в ряд областей были направлены политработники для организации переписки воинов с трудящимися. Уже через две недели поступили тысячи писем из разных уголков страны. Вот что писала, например, дальневосточница Андреева неизвестному бойцу: «Мы готовы на любые жертвы, чтобы оказать вам помощь. Задача и цель у нас одна – уничтожить врага. Дети и старики наши просят тебя – отомстить за них. Когда ты вернешься с победой, каждая девушка будет считать для себя большим счастьем назвать себя твоей невестой. Большое спасибо тебе скажет весь народ». Группа женщин зимой 1942 года писала: «Товарищи бойцы Волховского фронта! Вам пишут женщины Ленинграда. Имена освободителей Ленинграда народ никогда не забудет. Мы расскажем о ваших подвигах своим детям и внукам, чтобы они на всю жизнь запомнили слова «боец Волховского фронта». Мы, ленинградки, обнимаем вас как сыновей, любимых, родных. Имя волховца – освободителя города Ленина – станет священным». О таких письмах разнеслась весть по всем фронтам.
Слышал о них и боец Лукин, но уже, когда лежал в госпитале – почти парализованный, он не то что писать, но, порой, и пошевелиться не мог от боли, такой сложности получил ранение… А потом в его военном билете появится запись «уволен в запас в феврале 1944 года». И трудовая книжка у Николая Михайловича тоже с 1944 года, но первая запись в ней: «Служба в советской армии с 1942 по 1944 год». После ранения был демобилизован, работал во Владивостокском морском порту, а в марте 1952 года откомандирован в порт Ванино. Ветеран войны и труда, Почетный работник морского флота Николай Михайлович Лукин награжден медалями и двумя орденами Отечественной войны (один из орденов вручили ему в госпитале).
Татьяна Седых.
Материал из архива автора.
#12 19 марта 2025